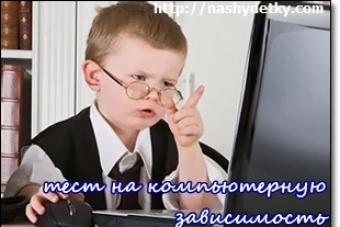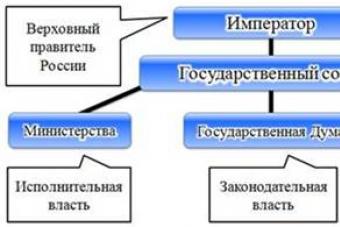Боя́н (Баян ) - древнерусский певец и сказитель, «песнотворец», персонаж Слова о полку Игореве .
Имя
По одной из версий, самое слово "боян" или "баян" (две эти формы исстари употребляются безразлично; одно и то же лицо называется то Боян, то Баян) - хорошо известно у всех славян: у русских, болгар, сербов, поляков, чехов. Происходит от старославянского "бати", означавшего, с одной стороны: "ворожить", "заговаривать", с другой - "баснословить". Отсюда старославянские слова: "баальник", "баальница", "волхв", "ворожея"; "баание", "бание" - ворожба, "басня"; "баник", "бан" - баятель, "incantator". Отсюда и позднейшие русские формы: "баян", "боян", "балян" - краснобай, байщик, знающий сказки, басни; белорусская "баюн" - охотник болтать, сказочник. Вместе с значением нарицательным у всех славян слово "баян", "боян" встречается и как имя собственное, как название реки, местности или лица. По другой версии Боян - славянское имя, от боятися : «наводящий страх», «которого боятся» (аналогично таким известным древнерусским именам, как Хотен или Ждан). По третьей версии, имя тюркско -болгарского происхождения, ср. чуваш. пуян «богатый», общетюрк. бай «богатый», от глагола baj - «становиться богатым».
Имя Боян является очень распространенным и у южнославянских народов, особенно у сербов, болгар, македонцев, черногорцев. Кроме имени Боян, на территориях с преимущественно болгарским населением с X века засвидетельствованы имена, этимологически схожие - Боимир (Х в.), Бояна (XVI в.), Бойо (XV в.) с др . Также стоит упомянуть легендарного основателя Аварского каганата Баяна I и древнеболгарского князя Батбаяна .
В Трубчевске (1975), Брянске (1985) и Новгороде-Северском (1989) установлены памятники Бояну.
Напишите отзыв о статье "Боян"
Примечания
Литература
Дмитриев Л. А. // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. - СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 1. А-В. - 1995. - С. 147-153
// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб., 1890-1907.
В мультфильмах
- Князь Владимир (2006; Россия) режиссёр Юрий Кулаков , Бояна озвучивает Лев Дуров .
Отрывок, характеризующий Боян
– Не знаю, позволят ли, – слабым голосом сказал офицер. – Вон начальник… спросите, – и он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.
– Можно раненым у нас в доме остановиться? – спросила она.
Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.
– Кого вам угодно, мамзель? – сказал он, суживая глаза и улыбаясь.
Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.
– О, да, отчего ж, можно, – сказал он.
Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.
– Можно, он сказал, можно! – шепотом сказала Наташа.
Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, поправились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.
– Надо все таки папаше доложить, – сказала Мавра Кузминишна.
– Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
– Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.
– Ну, я спрошу.
Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.
– Вы спите, мама?
– Ах, какой сон! – сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.
– Мама, голубчик, – сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. – Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите… – говорила она быстро, не переводя духа.
– Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, – сказала графиня.
Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.
– Я знала, что вы позволите… так я так и скажу. – И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.
В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.
M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.
– Соня, постой, да мы всё так уложим, – сказала Наташа.
– Нельзя, барышня, уж пробовали, – сказал буфетчнк.
– Нет, постой, пожалуйста. – И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.
– Блюда надо сюда, в ковры, – сказала она.
– Да еще и ковры то дай бог на три ящика разложить, – сказал буфетчик.
– Да постой, пожалуйста. – И Наташа быстро, ловко начала разбирать. – Это не надо, – говорила она про киевские тарелки, – это да, это в ковры, – говорила она про саксонские блюда.
– Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, – с упреком говорила Соня.
– Эх, барышня! – говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.
Баян (Боян) – древнерусский певец и сказитель, «песнотворец», персонаж Слова о полку Игореве. По одной из версий, самое слово «боян» или «баян» (две эти формы исстари употребляются безразлично; одно и то же лицо называется то Боян, то Баян) — хорошо известно у всех славян: у русских, болгар, сербов, поляков, чехов. Происходит от старославянского «бати», означавшего, с одной стороны: «ворожить», «заговаривать», с другой «баснословить». Отсюда старославянские слова: «баальник», «баальница», «волхв», «ворожея»; «баание», «бание» – ворожба, «басня»; «баник», «бан» – баятель, «incantator». Отсюда и позднейшие русские формы: «баян», «боян», «балян» – краснобай, байщик, знающий сказки, басни; белорусская «баюн» — охотник болтать, сказочник. Вместе с значением нарицательным у всех славян слово «баян», «боян» встречается и как имя собственное, как название реки, местности или лица. По другой версии Боян – славянское имя, от боятися: «наводящий страх», «которого боятся» (аналогично таким известным древнерусским именам, как Хотен или Ждан). По третьей версии, имя тюркско-болгарского происхождения, ср. чуваш. пуян «богатый», общетюрк. бай «богатый», от глагола baj – «становиться богатым». В арабском языке слово «бая́н» (араб. بيان) означает «разъяснение, объяснение, пояснение» (есть и другие значения).
Имя Боян является очень распространенным и у южнославянских народов, особенно у сербов, болгар, македонцев, черногорцев. Кроме имени Боян, на территориях с преимущественно болгарским населением с X века засвидетельствованы имена, этимологически схожие – Боимир (Х в.), Бояна (XVI в.), Бойо (XV в.) с др. Также стоит упомянуть легендарного основателя Аварского каганата Баяна I и древнеболгарского князя Батбаяна. По древнерусским граффити из Киева (запись о «Бояней земле» в Софийском соборе) и берестяным грамотам из Новгорода и Старой Руссы XI–XII веков известен ряд людей по имени Боян, что доказывает реальность этого имени и в различных регионах Руси. Известна также улица Бояна (в древности – Буяна или Бояна) в Великом Новгороде, существующая и поныне, названная, видимо, в честь новгородца, жившего в этом месте. Делались попытки отождествить певца из «Слова» с тем или иным из этих Боянов, но такие гипотезы, разумеется, ненадёжны.
Кем был?
Самая распространенная точка зрения исследователей русской истории состоит в том, что древнерусский Боян Вещий был придворным певцом русских князей XI века (предположительно чернигово-тмутороканских князей). В Слове о Полку Игореве говорится, что Боян воспевал трёх князей: Мстислава Владимировича Храброго, Ярослава Мудрого и Романа Святославича (внук Ярослава). Так же упоминается Всеслав Полоцкий, которого Боян порицал за то, что тот захватывал Киев. Здесь мы видим характерную для придворных певцов манеру составлять песни-хвалы и песни-хулы. Он был автором и исполнителем своих песен, сам пел и сам играл на музыкальном инструменте. Вот одна из припевок его песни о Всеславе Полоцком: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божіа не минути». Другие слова, которые цитирует автор повести: «Начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышленію Бояню «, » Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы». Однако вся информация по этому поводу взята из одного источника, доверять которому или нет – до сих пор спорят учёные.
Другие произведения Бояна и служение при княжеском дворе

Первым произведением Бояна была песнь о единоборстве Мстислава с Редедей. По мнению Шлякова, «в летописи мы имеем следы Бояновых песен, и летописец пользовался ими как источником для своих сведений» (Шляков. Боян, с. 495). Начав свою песнотворческую деятельность в Тмутаракани, Боян затем перешел в Чернигов. Шляков предполагает, что одно время Боян находился при дворе Ростислава Владимировича (ум. 1066 г.), затем перешел на службу к Святославу Ярославичу (ум. 1076 г.), воспевая деяния его и его семьи, «тесно связав особенно свою судьбу с судьбою его старшего сына – энергичного Олега» (там же, с. 498).
О том, что Боян был песнетворцем или придворным поэтом Святослава Ярославича и его сына Олега, писал М. Н. Тихомиров. Он отмечает, что все заимствования из «похвальных слов» Б. в «Слове о полку Игореве» «относятся к определенному и сравнительно узкому промежутку времени. В них говорится о пребывании полоцкого князя Всеслава на Киевском столе (1068 г.), о Святославе Ярославиче, сменившем Всеслава на Киевском престоле (умер в 1076 г.), о смерти «красного» Романа Святославича (1079 г.), о смерти Бориса Вячеславича (1078 г.).
О самом Олеге Святославиче говорится как о младом и храбром князе, внуком которого был Игорь Святославич, герой поэмы. Следовательно, Боян писал про молодого Олега, когда тот еще был «Гориславичем», т. е. до 1094 г. С этого года Олег уже прочно сидел на отцовском столе и борьба за Чернигов окончилась (Тихомиров. Боян и Троянова земля, с. 175–176)..
«Не подлежащую сомнениям» связь Б. с «домом чернигово-тмутараканских князей» подчеркивает Б. А. Рыбаков, который уделяет много места Б. в своем исследовании «Слова о полку Игореве». Ранний период песнотворчества Б. Рыбаков относит ко времени княжения Мстислава Храброго (ум. в 1036 г.), ратные подвиги которого воспевал Б. После смерти Мстислава Б., как полагает Рыбаков, перешел ко двору киевского великого князя Ярослава, к которому перешли черниговские и тмутороканские владения умершего бездетным Мстислава. Затем Боян снова вернулся в Тмуторокань. Большинство исследователей, опираясь на припевку Б. о Всеславе Полоцком – «Ни хытру, ни горазду, ни птицюгоразду суда божиа не минути», считают, что Боян умер после смерти Всеслава (1101 г.).
Гипотеза №1
А.X.Востоков в примечаниях к своей стихотворной повести «Светлана и Мстислав» в «Опытах лирических» (1806 г.) писал, что он, вслед за В.Т.Нарежным, считает, что русские поэты, которые «должны были находиться при дворе государей древних», назывались «Баянами». Об этом, отмечает Востоков,
«не говорит «Повесть о походе Игоря», упоминающая только об одном Баяне, как о собственном имени; но нельзя ли предположить, что упомянутый песнотворец по превосходству назван общим именем Баяна, т.е.: баснослова, вития, рассказчика»
Так же понимает имя Б. Пушкин в «Руслане и Людмиле» – оно у него одновременно и имя собственное, и нарицательное: «Все смолкли, слушают Баяна…», «И струны громкие Баянов / Не будут говорить о нем!»
Историко-археологические находки последнего времени не только подтвердили бытование имени Б. в Древней Руси, но свидетельствуют о его достаточно широкой распространенности. В Новгородской 1-й летописи упоминается «Бояня» улица, в Рядной грамоте Тешаты и Якима (1261–1291 гг.) названо имя послуха Бояна (Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949, с. 317). Имя «Боян» встречается в трех новгородских берестяных грамотах (одна – 80-х гг. XI в., две – XII в.).

Гипотеза №2
Стоит сказать, что в Великом Новгороде сохранилась очень старая улица Бояна, вероятно от имени Новгородца, который жил здесь. По этому поводу существует масса предположений, одна из которых – Боян был тем самым Новгородским Волхвом Богомилом. Очень интересное исследование предлагает нам Б.А.Рыбаков. Эта история относится к крещению Новгорода в 988 году. Высший жрец славян Богомил, который жил в Новгороде, активно сопротивлялся новой вере князя Владимира и поднял настоящий бунт. Добрыня с Путятой разбили сопротивление Новгорода, сокрушили идолы и капища. Так вот, того самого жреца Богомила называли Соловьём, прозванный так от своего красноречия. Соловьём же называли и Бояна. Позже, в Новгородской Земле, в слое датируемом 1070-1080 гг., были найдены гусли с надписью «Словиша» т.е. Соловей, которые предположительно принадлежали тому самому жрецу и волхву Богомилу-Соловью. Всё это, и ещё практически одинаковое время существования и того и другого человека, даёт право делать предположение, что Богомил и Боян могли быть одним и тем же лицом.
Гипотеза №3
Интересно, что еще в 1842 году исследователь литературы древней Руси А. Ф. Вельтман впервые высказал мнение, что Боян – это летописный Янь. Основанием для поисков Бояна послужили свидетельства летописца Нестора под 1106 годом, где зафиксировано два события, связанных с именем Янь: «Повоевали половцы возле Зареческа, и послал на них Святополк (Изяславич) Яна Вышатича и брата его Путяту… В это же лето умер Янь («Вышатич» – доказывал академик Д. С. Лихачев), старец добрый, жил лет девяносто, в старости маститый: жил по закону Божьему, не худший первых праведников, от него же я слышал много словес, которые и вписал в Летописец. Его же и гроб есть в Печерском монастыре, где лежит тело его, положенное месяца июня в 24-й день».
В. В. Яременко высказал интересное предположение: «Вот, очевидно, и есть биография Бояна. На самом деле – Яна, нашего первого известного песнетворца… Если Янь умер в 1106 году в 90-летнем возрасте, то, соответственно, родился в 1016 г.». Но дальше приоритет отдавали мнению академика Д. С. Лихачева, что Янь-поэт, он же Янь Вышатич – киевский воевода и потомок Добрыни, брата Малуши.
Изучение «Повести временных лет» расширило круг летописных знаний о герое «Слова…» Бояне – Яне: 1016 г. – родился; в 1073 г. (ему 57 лет) – дом праведника Яня и Марии посетил святой Феодосий; 16 апреля 1091 г. (75 лет) – овдовел; 24 июня (7 июля) 1106 г. (90 лет) – умер автор летописных словес и похоронен рядом с женой и
Феодосием в притворе Успенской церкви Печерского монастыря с левой стороны, «…где и лежит тело его», – записал Нестор 888 лет назад.
А это лучшее свидетельство, что Боянь, друг св. Феодосия и св. Нестора, не был ни язычником, ни «руководителем языческих праздников», ни оборотнем, поскольку сам черноризец св. Нестор назвал уважаемого Яня праведником, а св. Феодосий пожелал, чтобы тот был положен рядом с ним в Печерской церкви.
В 1960-х гг. археологом В. В. Высоцким было найдено на стене Софии Киевской граффити, которое свидетельствовало о покупке Бояневой земли вдовой князя Всеволода за 700 гривен. Мог ли такими землями владеть не князь и не воевода? Мог, свидетельствует «Слово о полку Игоревом», ведь «Боянь песни творил», причем песни, достойные летописных текстов. Выходит, во времена киевских князей Ярослава Мудрого и его сыновей (после 1054 до 1074 г.) такое уникальное творчество Бояна, скрытого в летописи под именем «Янь», дорого ценилось.
Образ Бояна в «Слове о полку Игореве»

Боян – это древнерусский певец и сочинитель песен. Исследователи предполагают, что Боян жил во второй половине XI века. Об этом говорят песни Бояна, которые связаны именно с историей XI века. Судя по всему, Боян был достаточно знаменитым певцом в свое время. Его песни сохранялись в народе около столетия. Народ был знаком с творчеством Бояна. Автор «Слова о полку Игореве» называет Бояна «старинным соловьем», то есть певцом из прошлого. Действительно, Боян жил несколько раньше, чем автор «Слова»: «…О Боян, старинный соловей!..» В своих песнях Боян воспевает подвиги и заслуги князей. Боян сочинял песни о битвах, походах и ополчениях своей эпохи: «…Боян был песнотворец, сочинитель песен о битвах и ополчениях…» (Д. В. Айналов «На каком инструменте играл Боян?»)
Боян был известным певцом, но он не был народным поэтом. Д. С. Лихачем считает Бояна «придворным поэтом», то есть служащим «при дворе» князей: «…Очевидно, Боян и не был подлинно народным поэтом. По-видимому, это был поэт придворный…» (Д. С. Лихачев «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени»).
В «Слове о полку Игореве» автор рассказывает, что Боян играл на каком-то струнном музыкальном инструменте: «…И на струны возлагал живые, –Вздрагивали струны, трепетали,Сами князям славу рокотали…» На каком инструменте играл Боян? Исследователи пришли к выводу, что Боян играл на гуслях. Вот что об этом пишет известный историк Д. В. Айналов: «…Из текста «Слова о полку Игореве» видно, что Боян пел и сопровождал свое пение игрой на каком-то струнном инструменте, название которого автор Слова не сообщает…» «…Бояна в XV–XVI вв. считали за гудца на гуслях и что определение его музыкального инструмента как гуслей восходит еще к XIV в., а судя по некоторым данным, и к более раннему времени…» (Д. В. Айналов «На каком инструменте играл Боян?»)
Как относится автор «Слова» к Бояну?
Отношение автора к Бояну неоднозначное. Автор «Слова» признает авторитет Бояна. Он называет Бояна «вещим» (что означало «волшебник», «чародей»): «…Вещие персты он подымал…» Но автор «Слова» не разделяет манеру Бояна воспевать князей и их подвиги. В отличие от Бояна, автор «Слова» стремиться быть объективным и говорить только о реальных событиях: «…автор «Слова» стоит значительно выше Бояна в понимании исторического смысла событий русской истории…» «…В отличие
от Бояна, автор «Слова» не только воздает хвалы князьям. Он взвешивает и расценивает их деятельность не с точки зрения их личных качеств (удаль, храбрость и т. д.), а с точки зрения оценки всей их деятельности для общенародного блага…» (Д. С. Лихачев «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени»).
О Бояне позднее вспоминали и в других произведениях Древней Руси, и в XIX веке, но источник у всех был один – «Слово о полку Игореве». Был ли в действительности такой певец-поэт или автор «Слова» его «выдумал», создав поэтический образ, в котором воплотил реальные черты придворных певцов Киевской Руси, – останется навсегда загадкой. Однако же благодаря «Слову» Боян вошел в сознание людей Древней Руси как великий слагатель и исполнитель устных песен во славу князей.
Источники
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Боян
http://web-kapiche.ru/104-boyan-veschiy.html
http://historicaldis.ru/blog/43924880319/Boyan-%E2%80%94-drevnerusskiy-poet-pevets.
http://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Lit/S/SlovoPolkIgor/Bojan.html
БОЯН, М.В.Фаюстов
БОЯН (Баян) - славянский бог музыки, поэзии и музыкальных инструментов. мифический поэт-певец древних славян. Упоминается в летописях.

ИМЯ: Баян (Боян) — русское «богач», «богатство», «богатый», «изобильный»; бурятское «баян»; тувинское «бай», «пай». Имя и характер певца связаны со словами «6ая(и)ть» - говорить, рассказывать, «байка» - сказка, «баюн» - говорун, сказочник, краснобай, «прибаутка» - шутка, «баюкать» - укачивать ребенка под песенку, «обаять» - обольстить, обворожить. Старинное «обавник», «обаянник» - значит чародей, «бальство» - ворожба.

Русская быль, В.Васнецов
СПОСОБНОСТИ: Прародитель Бояна - звериный и «скотий» бог , поэтому вещий певец умеет и слышать голоса птиц и зверей, а потом перелагать их на язык человеческий. Струны его гуслей - живые, персты его - вещие. Боян один из немногих, кто умеет слышать пророчества птицы кому навевает сладкие сны , кто не убоится смертоносных песнопений
В песнях Бояна есть и шаманская традиция, связанная с представлением о мировом дереве, и навыки ранней славянской поэзии, восходящей к общеиндоевропейскому поэтическому языку.
Памятник Бояну в Ялте
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: От Бояна идёт традиция сложения былин, раннего устного поэтического творчества. Он везде успевает, где случаются значительные события, воспевает мудрость князей и подвиги воинов; но в назидание потомкам смело «бает» о распрях, изменах, неразумной гордыне правителей, что приводит к страшным бедам. Песни Бояна - устная летопись жизни народа.
В ЛИТЕРАТУРЕ: У Бояна вещего, бывало,
Если петь он начинал о ком,
Мысль, как серый волк в степи, бежала,
Поднималась к облакам орлом.
… Но не десять соколов взлетали,
А Боян персты на струны клал,
И живые струны рокотали
Славу тем, кто не искал похвал.
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ. Перевод Н.РЫЛЕНКОВА

ГУСЛЯРЫ, В.Васнецов
ИСТОРИЯ: Согласно наиболее распространённой в современной науке точке зрения, Боян - историческое лицо, придворный певец ряда русских князей XI века. Автор «Слова» называет трёх князей, которых воспевал Боян: братья-соперники Мстислав Владимирович Храбрый (ум. 1036) и Ярослав Мудрый (ум. 1054), а также внук второго из них Роман Святославич (ум. 1079), - и одного князя, которого Боян порицал: это Всеслав Полоцкий (правил в 1044-1101, в 1068 кратковременно княжил в Киеве). Судя по тому, что двое из положительных героев Бояна правили в Черниговском и зависимом от него Тмутараканском княжестве (а после смерти Мстислава всей Русью, включая Чернигов и Тмутаракань, владел и третий из них, Ярослав Мудрый), выдвигалась гипотеза о том, что и сам Боян был связан с этими местами. Хронология показывает, что Боян был активен как певец на протяжении не менее 40 лет. По характеру творчества он, скорее всего, напоминал скандинавских скальдов, сочиняя в честь конкретных князей ритмизованные песни-хвалы или песни-хулы.
Памятник Бояну в Трубчевске
СКУЛЬПТУРА: В Трубчевске (1975), Брянске (1985) и Новгороде-Северском (1989) установлены памятники Бояну. Памятник Бояну - ключевая фигура композиции в честь 1000-летия города Трубчевска
В ПАМЯТИ РУССКОГО ЯЗЫКА. Мы сохранили имя Бояна в музыкальном инструменте баяне.
Да и баять — рассказывать до сих пор продолжаем.
ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ. Некоторые люди предлагают день Бояна отмечать в день славянской письменности
(175)Информация найдена на просторах интернета и частично отредактирована.
Принято считать, что знаменитое «Слово о полку Игореве» было создано в 1185 г. И создано по горячим следам событий – вскоре после сокрушительного разгрома половцами войска новгород-северского князя Игоря Святославича. Известно, что в конце XVIII столетия это произведение было обнаружено в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре. В 1795 г. оно оказалось в руках А.И. Мусина-Пушкина, который подготовил редкую рукопись к печати.
В 1800 г. в Москве из стен Сенатской типографии вышло в свет первое издание «Слова о полку Игореве» – одного из самых значительных памятников русской средневековой литературы. В духе того времени заголовок гласил: «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие».
Издание ранее неизвестного произведения сразу же привлекло внимание образованных кругов тогдашней России. И вот уже более двух веков ученые разных специальностей: историки, литературоведы, лингвисты, археографы, географы, ботаники и зоологи, а также писа¬тели и поэты, снова и снова обращаются к бессмертному «Слову». О нем написаны тысячи книг, десятки тысяч статей, оно переведено на многие языки мира.
И чем глубже и обширнее идут исследования, тем яснее и ярче становится в наших глазах облик Автора. Это – гениальный литератор, опиравшийся в своем творчестве на традиции народного героического эпоса, поэт, почитатель песнопевца Бояна, эрудит и книжник, историк и осведомленный политик с общерусской позицией.
Для него характерна не только творческая одаренность, но и блестящее знание истории, политики, культуры, мифологии, фольклора, географии, военного и охотничьего дела…
Но откуда почерпнул он свои энциклопедические знания, из каких источников, что он читал или мог читать? В этом очерке сделана попытка, исходя из содержания самой поэмы, определить «книжный мир» создателя «Слова о полку Игореве».
Автор «Слова» прекрасно знал легендарного поэта средневековой Руси Бояна, называя его «соловьем старого времени». Он появляется уже в первых строках «Слова», загадочный, похожий на волшебника-чародея. Слагая и исполняя свои песни-славы, Боян, по словам Автора, носился по полю волком, парил в небе орлом, растекался мыслью по древу («растекаться» - путешествовать). Струны у него – живые, персты – вещие и они сами собой славу князьям рокотали.
Кто такой Боян и существовал ли он на самом деле? Первые издатели «Слова» в своих примечаниях признавались, что не знают, «когда и при каком государе гремела лира его», а далее предполагали: «По названию Бояна внуком Велесовым, кажется, что жил он до принятия в России христианской веры». Поэт М.М. Херасков, сравнивая Бояна с Гомером и Оссианом, попытался определить примерное время его жизни: «Ты, может быть, Боян, тому свидетель был, когда Владимир в Тавр закон принять ходил».
Н.М. Карамзин относил время жизни «древнейшего русского поэта» к более ранней эпохе: «Может быть, жил Боян во времена героя Олега; может быть, пел он славный поход сего аргонавта к Царюграду, или несчастную смерть храброго Святослава, который с горстью своих погиб среди бесчисленных печенегов, или блестящую красоту Гостомысловой правнучки Ольги, ее невинность в сельском уединении, ее славу на троне».
Имя Боян употреблялось и как нарицательное, обозначавшее средневекового русского поэта вообще. Теперь, благодаря усилиям многих исследователей, известно, что существовал вполне реальный поэт-певец Киевской Руси Боян. Время его жизни можно определить довольно точно. Уже в запеве «Слова о полку Игореве» говорится, что свои песни-славы он пел «старому Ярославу, храброму Мстиславу, что зарезал Редедю перед полками касожскими, прекрасному Роману Святославичу». Старый Ярослав – это великий князь Киевский, известный как Ярослав Мудрый (умер в 1054 г.), храбрый Мстислав – князь Тмутороканский, брат Ярослава Мудрого. Прекрасный Роман Святосла¬вич – это внук Ярослава, старший брат Олега Святославича, получившего прозвище Гориславич (Роман погиб в 1079 г.). В последних строках «Слова» Боян славит Олега после его возвращения из Византии – это 1083 г.
Самое же раннее событие, воспетое Бояном, – богатырское единоборство князя Мстислава с предводителем кавказского племени касогов Редедей в 1022 г. Песню Бояна, прославляющего Мстислава, помнили и через 150 лет, а сложена она была не позже 1036 г. – ведь пел ее Боян самому Мстиславу, умершему в том же году.
Академик Б.А. Рыбаков так определяет «послужной список» знаменитого песнотворца: «Сначала он был связан с Мстиславом, затем с Ярославом Старым, затем с его сыном Святославом и сыновьями Святослава – Романом и Олегом, родоначальником Ольговичей. Гусли Бояна зазвучали еще до 1036 года и продолжали рокотать славы князьям вплоть до 1083 года, т.е. более полувека».
Автор «Слова» называет Бояна внуком Велеса – бога богатства, мудрости и искусств, «вещим» и «смысленым», т.е. мудрым и проницательным, а также умеющим «свивать славы оба-полы сего времени» – видимо, связывать прославление своих современников с воспоминаниями о событиях прошлого. Всего же имя Боян упоминается в «Слове» семь раз. Но слушатели и читатели того времени настолько хорошо знали песни и манеру «гораздого гудца в Киеве», что Автор «Слова», обращаясь к творчеству Бояна, мог и не называть его имени.
Исследователи же определяют принадлежность Бояну отдельных отрывков в «Слове» по их синтаксическим и стилистическим особенностям, отличиям по ритму и размеру. Так, крупнейший русский филолог XIX в. Ф.И. Буслаев предположил, что портрет Олега Святославича основан на песнях Бояна. Позже это наблюдение подтвердил академик М.Н. Тихомиров.

Много места Автор «Слова о полку Игореве» уделяет полоцкому князю-чародею Всеславу Брячиславичу, описывая его самым причудливым и одновременно самым доброжелательным образом: «Всеслав-князь людям суд творил, князьям города дарил, а сам по ночам волком рыскал, из Киева достигал до первых петухов Тмуторокани, великому Хорсу перебегал дорогу». М.Н. Тихомиров считал, что и эти строки взяты из песен Бояна. Однако в них явственны и отголоски сказаний о Волхе Огненном Змее, относящихся еще к общеславянскому эпосу, с его колдовством, волшебством и чудесными превращениями. И Автор прекрасно ориентировался в древнейших сказаниях. Они сохранились как былины о Волхе Всеславьевиче.
Но речь не может идти о простом заимствовании, использовании чужого материала. По мнению Б.А. Рыбакова, Автор «Слова» и в художественном, и политическом отношении спорил со своим предшественником, иначе оценивая многих людей и события столетней давности: «Боян пел славу Святославу Ярославичу, одному из трех братьев, вероломно засадивших Всеслава в тюрьму». Поэтому строки, восхваляющие Всеслава, принадлежат, с точки зрения академика, самому Автору, а порицающие – Бояну. Рассказ «Слова» о князе-чародее заканчивается так: «Ему вещий Боян и давнюю припевку-поговорку изрек, мудрый: “Ни хитрому, ни разумному, ни колдуну искусному суда Божьего не миновать!”». Интересна характеристика припевки-поговорки, сделанная Автором, – «давняя». Это значит, что Боян использовал широко известный афоризм, параллели которому обнаруживаются в средневековых литературах различных народов. Так, в «Саге о Гроттире» говорится, что «никто не избежит того, что ему назначено», а в несколько измененном виде этот афоризм приводится в «Молении Даниила Заточника».
Известно, что на реке Немиге дружина князя Всеслава столкнулась в жестокой сече с дружиной Изяслава Ярославича. Ее описание в «Слове о полку Игореве», по мнению Ф.И. Буслаева, также принадлежит Бояну: «На Немиге снопы стелют головами, молотят цепами харалужными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Кровавые берега Немиги не добрым зерном были засеяны – засеяны костьми русских сынов».
Но как узнавал Автор содержание песен-слав Бояна? И справедливо ли вообще причислять его к русским книжникам, т.е. было ли его творчество всецело устным, импровизационным или существовало также в письменном виде? Теперь нет сомнения, что Боян был не только грамотен, но и широко образован. Он имел многих предшественников и пользовался целой рунической библиотекой, привезенной Ярославом Мудрым из Новгорода. Исследователи считают, что Боян записывал свои песни, и предполагают, что его произведения использовали и летописцы, и Автор «Слова о полку Игореве», и другие литераторы того времени.
Автор «Слова» имел представление и о том, что порой одно произведение исполнялось двумя певцами в форме диалога. Боян пел вместе с другим поэтом по имени Ходына, что и запечатлено в «Слове о полку Игореве». Там же приведен их афоризм: «Тяжело тебе, голове, без плеч, плохо тебе, телу, без головы».

В целом оценка Бояна в «Слове о полку Игореве» – восторженно-приподнятая. Но еще А.С. Пушкин заметил, что в ней, возможно, «ирония пробивается сквозь пышную похвалу». Размышляя о стиле своего прославленного предшественника и как бы отталкиваясь от него, Автор показывает, как Боян мог начать песнь о походе Игоря: «Не буря соколов занесла через поля широкие – галки стаями летят к Дону великому!» И тут же предлагает свой зачин: «Или так бы тебе спеть, о вещий Боян, Велесов внук: «Кони ржут за Сулою – звенит слава в Киеве; трубы трубят в Новеграде, стоят стяги в Путивле!» Комментарий Пушкина: «Теперь поэт говорит сам от себя, не по замыслу Боянью, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени».
Автор в какой-то степени противопоставлял свою творческую манеру манере своего предшественника. Уже в первой строке он говорит, что «неприлично (нелепо) было бы начинать нам старыми словами скорбных воинских повестей песнь о походе Игоревом». В результате Автор «Слова» вместо традиционной воинской повести создал произведение уникального жанра – одновременно страстную лирическую песнь и волнующее публицистическое произведение. И в самом его тексте памятник называется и «словом», и «песнью», и «повестью», а в современных публикациях – также «поэмой», а его Автор, соответственно, поэтом.
Исследователи считают, что Автор «Слова» – это человек широко начитанный, знавший не только песенно-поэтические творения Бояна и эпические сказания о прошлом Руси, но и глубоко разбиравшийся в исторической литературе своего времени, хорошо знакомый с лучшими образцами поэтического и художественно-литературного творчества. Но это, конечно, не значит, что гениальное «Слово» состоит сплошь из заимствований. Автор был совершенно оригинален в использовании устно-поэтического и книжного материала, проявил «высокую степень художественной самостоятельности» (Н.К. Гудзий).
«Слово о полку Игореве» обильно насыщено историческими фактами. Знания Автора истории глубоки и обширны, хронологический охват событий составляет тысячу лет – от «веков Трояновых» (I–IV вв.) до 1185 г.

Много сведений Автор почерпнул из летописей, прежде всего из «Повести временных лет» Нестора. В «Слове» обнаружен ряд выражений, мыслей, почти буквально совпадающих с выражениями и мыслями «Повести». «В лице Автора «Слова о полку Игореве» «Повесть временных лет» нашла внимательного и чуткого к ее жизненной красоте читателя», – писал академик Д.С. Лихачев.
Внимательно изучал Автор «Слова» все то, что относилось к половецкой опасности, угрозе со стороны Степи, в частности материалы Любеческого съезда 1097 г., страстный призыв на нем Владимира Мономаха к объединению русских князей. Тогда Владимир Мономах говорил, что из-за междоусобиц «погибает земля Русская и враги наши половцы пришедшие возьмут землю Русскую».
С этими словами Мономаха совпадают укоры Автора «Слова»: князья начали «сами на себя крамолу ковати, а неверные из всех стран приходили с победами на Русскую землю». Причем эту мысль Автор повторяет дважды, настолько для него важна идея объединения князей перед половецкой опасностью.
Автор бессмертного творения средневековой русской литературы был знаком и со многими другими произведениями, как русскими, так и зарубежными, которые бытовали тогда на Руси. Приведу два примера. Это – «бобровый рукав» Ярославны и «жемчужная душа» Изяслава, сына Василькова. Долгое время переводчики и комментаторы считали, что в первом случае речь идет о рукаве женской одежды, отороченном бобровым мехом. В переводе В.А. Жуковского, например, читаем:
«Омочу бобровый рукав в Каяле-реке,
Оботру князю кровавые раны…»
Современные филологи установили, что это вовсе не бобровый рукав, что бобряная ткань – это мягкая шелковая ткань, а не бобровый мех. Н.А. Мещерский обнаружил в ряде памятников, переведенных на Руси в середине XI – начале XII вв., слово «бобр», которое обозначало тонкую шелковую ткань. Конечно, Автор «Слова» знал эти книги, как и то, что шелковая ткань обладает целебными свойствами.
Чрезвычайно интересно то место, где говорится о гибели Изяслава, который был «на кровавой траве повержен литовскими мечами», где «изронил жемчужную душу из храброго тела». Метафора «душа – жемчужина (или бисер)» была известна в русской литературе по «Хронике» Георгия Амартола.

Предсмертные же слова князя Изяслава «Дружину твою, о князь, птицы крыльями приодели» соответствуют словам, произносимым перед смертью героями исландских саг, таких как «Сага о Гисли», «Сага о Греттире». Возможно, это место в «Слове» восходит к какому-то не дошедшему до нас произведению викинга-скальда Эгиля Скаллагримссона. Творчество скальдов хорошо было известно на Руси со времен Ярослава Мудрого, и Автор «Слова о полку Игореве» был знаком с этими сагами…
Этим перечнем, конечно, не исчерпывается возможный круг чтения Автора «Слова о полку Игореве». Можно смело предположить, что он обладал всеми теми книжными богатствами, которые накопила к тому времени Русь. А богатства эти были весьма значительны и разнообразны. Назову лишь самые выдающиеся, своего рода вершины.
Здесь страстное «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, которое в яркой форме возвеличивает Русь, прославляет ее князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Здесь же уникальный свод биографических повествований, в том числе и тех, что включены в Киево-Печерский патерик. Среди замечательных творений того времени – поэтичные «Слова» и «Поучения» писателя и проповедника Кирилла Туровского, мудрые раздумья государственного деятеля Владимира Мономаха в его «Поучении», фундаментальный исторический труд «Повесть временных лет» Нестора-летописца, о котором уже говорилось.
Русские книжники XI–ХП вв. создали еще ряд значительных произведений, таких, как «Хождение» игумена Даниила по Святым местам или «Слово о князьях», перекликающееся по содержанию со «Словом о полку Игоревом». Осбо отмечу «Сказание о Борисе и Глебе», написанное епископом Переяславля Южного Лазарем, человеком замечательно одаренным в литературном отношении. Можно предположить, что Автору «Слова» было близко и дорого то, что Лазарь сумел подняться до осознания необходимости единства «Русской великой страны». Под пером Лазаря князья Борис и Глеб выступали как защитники Руси от внешних врагов.
Как видим, «Слово о полку Игореве» находилось в окружении выдающихся образцов нашей словесности. И можно сказать, что оно отразило, впитало в себя красоту других творений средневековых отечественных авторов, причем впитало так, что стало «как бы сгустком всех тех достоинств, которые присутствуют в его окружении» (Ю.М. Лощиц).
Оно «подпитывалось» и творениями зарубежных авторов, которые тогда бытовали на Руси. Активная переводческая деятельность талантливых русских книжников началась уже при Ярославе Мудром в книгописной мастерской Киевской Софии. И Автор «Слова» знал многие из них. Например, «Хронику» Георгия Амартола, перевод которой Н.А. Мещерский назвал «подлинным поэтическим переложением», «Повесть об Акире Премудром», в основе которой – бродячий сюжет, связанный со сказками Шахерезады, повесть «О дерзости и храбрости и о бодрости прекрасного Девгения» («Девгениево деяние»), «Александрия» – роман об Александре Македонском. Добавлю сюда «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Хронику» Иоанна Малалы и Патерик Синайский… Исследователи находят в Игоревой песне отголоски этих и некоторых других памятников зарубежной литера¬туры, отдельные соответствия им.
Из множества примеров приведу два. Четыре раза Автор упоминает в своем «Слове» имя Троян – «земля Трояна», «тропа Трояна», «века Трояновы», «седьмой век Трояна». До сих пор ученые спорят об этом загадочном имени. Наиболее правдоподобной версией считают ту, согласно которой Троян – это римский император Марк Ульпий Троян (время правления 98–117 гг.), о котором Автор мог знать из книг. Сведения об античной истории Автор мог получить и от образованных людей, своих близких знакомых. Один из них, Киевский митрополит Климент Смолятич, ссылался в своих трудах на Гомера, Платона и Аристотеля.
Второй пример как раз и связан с Гомером. При сравнении «Илиады» и «Слова» очевидна близость описаний битв, их участников, трофеев и пленных, знамений и примет, света и тьмы, зверей и птиц, растений и других элементов стилистики и содержания обеих поэм.
И в завершение очерка поговорим о личности Автора бессмертной поэмы. Ученые и писатели приложили массу усилий, чтобы хотя бы установить его имя, место жительства, его социальное происхождение. Автор оказывался скоморохом, птицеловом, профессиональным певцом, княжеским дружинником, боярином, тысяцким, греком, скандинавом, самим князем Игорем, Кириллом Туровским, Владимиром Галицким и многими другими людьми…
Самые серьезные исследования по поиску наиболее вероятного Автора «Слова о полку Игореве» принадлежат академику Б.Л. Рыбакову. В начале 70-х годов прошлого века он опубликовал книгу «Русские летописцы и Автор «Слова о полку Игореве». Из всех летописцев, ко¬торые были современниками трагического похода Игоря, наш выдающийся историк особо выделил киевского боярина Петра Бориславича, считая его наиболее вероятным Автором «Слова». В 1991 г. академик выпустил в свет свой новый труд, полностью посвященный этому боярину: «Петр Бориславич. Поиски Автора «Слова о полку Игореве».
Перед читателями со страниц книги предстает один из замечательнейших людей XII столетия. Он занимал высокие государственные посты, был опытным воином и воеводой, прожившим долгую жизнь. Петр Бориславич – активный участник многих событий: сражений, посольств, совещаний, дослужился до поста тысяцкого – выборного главы киевского боярства. И особенно важно, Петр Бориславич занимался литературной деятельностью, был незаурядным писателем, страстным публицистом и историком. В течение полувека он вел летопись, которую отличают высокие литературные достоинства и независимость суждений автора.
Автора «Слова о полку Игореве» и Петра Бориславича объединяют совпадение времени и места жизни, социальный статус (принадлежность к старшей дружине, боярству), одинаковые симпатии и антипатии, одинаковое отношение к великому князю Святославу Всеволодовичу, одинаковая политическая программа, одинаковое безразличие к церкви. Приводя веские доказательства в пользу авторства «Слова» Петра Бориславича, академик все же высказывал некоторые сомнения. Но незадолго до своей кончины Борис Александрович Рыбаков уверенно заявил: «Анализ текстов летописей и статистические расчеты позволи¬ли мне сделать вывод, что «Слово» – подлинная вещь, написанная по следам событий в конце XII века в Киеве Петром Бориславичем».
БОЯН (БАЯН)
Боян или баян - певец, имя которого несколько раз упоминается в "Слове о полку Игореве". Самое слово "боян" или "баян" (две эти формы исстари употребляются безразлично; одно и то же лицо называется то Боян, то Баян) - хорошо известно у всех славян: у русских, болгар, сербов, поляков, чехов. Происходит от старославянского "бати", означавшего, с одной стороны: "ворожить", "заговаривать", с другой - "баснословить". Отсюда старославянские слова: "баальник", "баальница", "волхв", "ворожея"; "баание", "бание" - ворожба, "басня"; "баник", "бан" - баятель, "incantator". Отсюда и позднейшие русские формы: "баян", "боян", "балян" - краснобай, байщик, знающий сказки, басни; белорусская "баюн" - охотник болтать, сказочник. Вместе с значением нарицательным у всех славян слово "баян", "боян" встречается и как имя собственное, как название реки, местности или лица. Так, например, у болгарского царя Симеона один из сыновей назывался Боян; в Болгарии есть местность Бояново. В Новгороде издавна была известна улица Бояня; в Калужской губернии до сих пор существует деревня Бояновка. Автор "Задонщины", грамотей начала XV века, вспоминает "вещего Бояна в городе в Киеве, гораздо гудца", который "пояше славу русским князем"... На основании фактических упоминаний о Бояне в "Слове о полку Игореве" имя это первыми издателями этого памятника было внесено и в русскую науку как имя исторического лица, "славнейшего в древности стихотворца русского". Одновременно с этим в "Пантеон российских авторов" оно вносится Карамзиным. "Мы не знаем, - замечает он, - когда жил Боян, и что было содержанием его сладких гимнов". Из некоторых мест "Слова" Карамзин заключает, что Боян жил при князе полоцком Всеславе I ("Пантеон российских авторов", 1801). Позднее в "Истории Государства Российского" излагая "Слово о полку Игореве", его источниками, образцами для автора Карамзин считает "богатырские сказки", песни бояновы и других многих стихотворцев, которые исчезли в пространстве семи-восьми веков". Митрополит Евгений энергично восстает против всяких сомнений в исторической подлинности Бояна и вносит имя его как древнерусского певца в свой "Словарь светских русских писателей" (1845). Сомнение в существовании Бояна как исторического лица было выражено Пушкиным. В "Руслане и Людмиле" он употребил слово "баян" в смысле нарицательном, вообще "певца"
Краткая биографическая энциклопедия. 2012
Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое БОЯН (БАЯН) в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
- БАЯН в Краткой биографической энциклопедии:
Баян, см. Боян … - БАЯН
или Боян — мифический певец, имя которого упоминается несколько раз в "Слове о полку Игореве". Форма "Баян" теперь сделалась популярна … - БАЯН
или Боян? мифический певец, имя которого упоминается несколько раз в "Слове о полку Игореве". Форма "Баян" теперь сделалась популярна … - БАЯН в Словаре воровского жаргона:
- 1) литp водки, 2) станок для дактилоскопиpования, 3) пила, 4) шпpиц для инъекции … - БАЯН в Сленговом словаре Севастополя:
Автомобиль марки … - БАЯН в Словаре значений Казахских имен:
(муж.)(др. тюрк.) беспрельно счастливый (жен.)(др. тюрк.) крепкая, могучая, … - БОЯН в Справочнике Персонажей и культовых объектов греческой мифологии:
в восточнославянской мифологии эпический поэт-певец. Известен по «Слову о полку Игореве» (имя Б. встречается также в надписях Софии Киевской и … - БАЯН в Литературной энциклопедии:
см. «Слово о полку … - БОЯН
- БАЯН в Большом энциклопедическом словаре:
- БОЯН в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
селение Елисаветпольской губ. и уезда, на рч. Кочкара-чай, с армянским населением в 1995 д. об. пола, домов — 274. Через … - БАЯН ГАЗ. в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
еженедельная газета; см. Музыкальные … - БОЯН
- БАЯН в Современном энциклопедическом словаре:
русская хроматическая гармоника. Название по имени древнерусского певца-сказителя Баяна (Бояна). Используется как сольный и ансамблевый инструмент, входит в оркестр народных … - БОЯН
(Баян), русский песнотворец 11 - 12 вв., слагавший песни-славы в честь подвигов князей. Впервые упомянут в "Слове о полку Игореве" … - БАЯН в Энциклопедическом словарике:
русская хроматическая гармоника. Название по имени древнерусского певца- сказителя Баяна (Бояна). Используется как сольный и ансамблевый инструмент, входит в оркестр … - БАЯН в Энциклопедическом словаре:
, -а, м. Разновидность большой гармоники со сложной системой ладов. II прш. баянный, oая, -ое. Русская баянная … - БОЯН
БО́ЯН, археол. культура эпохи неолита (4-е тыс. до н.э.) на терр. Румынии, Болгарии и Молдавии. Названа по поселению на оз. … - БАЯН в Большом российском энциклопедическом словаре:
БА́ЯН, один из наиб. совершенных и распространённых видов хроматич. гармоники. Назван по имени легендарного др.-рус. певца- сказителя Баяна (Бояна). … - БОЯН в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона:
? селение Елисаветпольской губ. и уезда, на рч. Кочкара-чай, с армянским населением в 1995 д. об. пола, домов? 274. … - БАЯН в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона:
? еженедельная газета; см. Музыкальные … - БАЯН в Полной акцентуированной парадигме по Зализняку:
бая"н, бая"ны, бая"на, бая"нов, бая"ну, бая"нам, бая"н, бая"ны, бая"ном, бая"нами, бая"не, … - БАЯН
-а, м. Язычковый музыкальный инструмент, ручная кнопочная гармонь с полным хроматическим звукорядом на правой клавиатуре, басами и готовым аккордовым аккомпанементом … - БОЯН в Популярном толково-энциклопедическом словаре русского языка:
= Ба"ян, -а, м. Легендарный древнерусский певец и поэт XI - начала XII в., слагавший песни славы в честь подвигов … - БАЯН в Популярном толково-энциклопедическом словаре русского языка:
см. … - БАЯН
Гармонь … - БАЯН в Словаре для разгадывания и составления сканвордов:
Большая … - БАЯН в Словаре для разгадывания и составления сканвордов:
Не простая … - БАЯН в Словаре для разгадывания и составления сканвордов:
Зачем он козе, она и так … - БАЯН в Словаре для разгадывания и составления сканвордов:
Русская … - БАЯН в Словаре синонимов Абрамова:
см. … - БОЯН
баян, певец, … - БАЯН в словаре Синонимов русского языка:
боян, гармоника, инструмент, певец, поэт, … - БАЯН в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой:
1. м. 1) Легендарный древнерусский певец-сказитель. 2) Поэт, исполнитель песен, сказаний. 2. м. Большая гармоника со сложной системой … - БАЯН
ба`ян, … - БАЯН в Словаре русского языка Лопатина:
Ба`ян, -а (легендарный … - БАЯН в Полном орфографическом словаре русского языка:
баян, … - БАЯН в Орфографическом словаре:
ба`ян, -а (легендарный … - БАЯН в Орфографическом словаре:
ба`ян, … - БАЯН в Словаре русского языка Ожегова:
разновидность большой гармоники со сложной системой … - БОЯН
археологическая культура эпохи неолита (4-е тыс. до н. э.), на территории Румынии, Болгарии и Молдавии. Название по оз. Боян (Румыния). … - БАЯН в Современном толковом словаре, БСЭ:
один из наиболее совершенных и распространенных видов хроматической гармони. Назван по имени легендарного древнерусского певца-сказителя Баяна … - БОЯН в Толковом словаре русского языка Ушакова:
См. … - БОЯН в Новом словаре русского языка Ефремовой:
м.; - … - БОЯН в Большом современном толковом словаре русского языка:
м. ; = … - ПЕНЕВ БОЯН НИКОЛОВ
Боян Николов (27.4.1882, Шумен,- 25.6.1927, София), болгарский литературовед, критик, член-корреспондент Болгарской АН (1918). Окончил Софийский университет (1907). Доцент (с 1909) … - БОЯН (НЕОЛИТИЧ. КУЛЬТУРА) в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
(Boian), неолитическая культура, распространённая на современной территории Румынии и Болгарии (4-е тыс. до н. э.). Названа по поселению на озере …